- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Заказать консультацию
Теоретические основы представлений о социальном взаимодействии
Как уже было сказано, в качестве фундаментального основания конституирования социальной реальности и социального пространства как формы ее организации в социологии принимается социальное взаимодействие. Оно представлено в двух базовых модальностях — функциональной и символической.
Структурно-функциональнаятрактовкасоциалъноговзаимо- действия. Начиная с работ Б. Малиновского и А. Рэдклифф-Брауна эта теоретическая позиция была — и теперь остается — доминирующей в социологическом анализе совместной активности людей.С самого начала порождение функций, связи между ними, проявляющиеся во взаимодействиях людей, соответствующие образования, или институты, обосновывались двояким образом. С одной стороны, они выводились из необходимости удовлетворять человеческие потребности и запросы. С другой — из адаптационных императивов, связанных с поддержанием социальных связей и отношений. Истоки первого направления обнаруживаются в работах Б. Блиновского; второго — в исследованиях А. Рэдклифф- Брауна.
Концепция функции подразумевает антропологические предпосылки взаимодействия людей с окружением, причем, не только в экологическом, но и в социокультурном измерениях. Особое внимание в этих теоретических рамках уделяется технологиям и инструментам, порождаемым и используемым в процессах интеракции.
Они рассматриваются как посредники, которые делают возможными координацию и интеграцию действий, направленных на удовлетворение потребностей и запросов людей, на поддержание обеспечивающих его социальных целостностей.
Наиболее развитая форма структурного функционализма выражена в концепции социальной системы. Она широко представлена в социологии такими фигурами, как Т. Парсонс, Р. Мертон, Э. Шилз, М. Леви, Д. Белл и др. Соответствующие теоретические принципы использовались и в антропологии (для интерпретации процессов адаптации: к природному окружению в рамках неоэволюционизма, к социокультурному — в психологической антропологии).
Более того, начиная с 60-х годов XX в. в социальных науках системная трактовка общества и культуры стала доминирующей.
Представление о социальном действии. Понятие социального действия подразумевает совместную активность людей, представленную через цели, средства, условия и результаты ее реализации и направляемую определенными интенциями.
Составляющие ее акты могут быть элементарными и составными, разграниченными и перекрывающими друг друга в зависимости от содержания процесса взаимодействия. Из этих элементарных единиц формируются отдельные функциональные образования, устойчивые и нормативно установленные объединения которых называются институтами.
Организованность и эффективность интеракций в этих условиях определяется качеством действий, которые Т. Парсонс разделяет на инструментальные и неинструментальные. К первым он относит те, что базируются на рациональных основаниях.
Вторые носят импульсивный, реактивный характер. Они различаются в соответствии с содержанием побуждений. Ценностно-ориентированные действия структурируются культурно установленными стандартами и нормами и ранжируются в соотнесении с ними. Мотивационные стимулируются интернализованными, заученными желаниями, интересами, запросами. По функциям Парсонс подразделяет их на несколько форм:
- когнитивные, соответствующие формированию представлений;
- катектические, связанные с осуществлением желаний, влечений;
- оценочные, направленные на достижение морально санкционированных результатов.
Такая дифференциация действий теоретически обосновывает не только разнообразие форм и содержания процессов взаимодействия, но и внутреннюю неоднородность каждого из них.
На идеально-типическом уровне Парсонс представляет реализацию всех этих типов действий в рамках социальной системы через бинарные позиции Эго и Альтер, которые в рамках нормативно установленных социальных систем находятся в отношениях дополнительности.
Разнообразие составляющих таких диад отображено в понятии социальных ролей, определяемом через наборы выделенных категорий действий, правил их реализации, пределов возможных вариаций.
Оно характеризует наборы функций, значение которых обусловливается характером системного целого. В контексте взаимодействия динамические связи между ролями можно рассматривать как механизмы поддержания его в интегрированном состоянии.
Если первоначально с точки зрения теории действия в рамках социальной системы понятия роли и актора по содержанию совпадали, то позже их пришлось разделить. По мере применения идеально- типической модели в разных исследовательских контекстах стало очевидным, что исполнение социальной роли отнюдь не означает полной причастности индивида к ней.
Уже потому, что ролевые обязанности многообразны и диффузны и каждый индивид выполняет целый ряд ролей, в своих взаимодействиях он никогда не оказывается в сети безоговорочных обязательств.
Отсюда несовпадение понятий личности и выполняемых ею социальных функций, тот концептуальный зазор, который допускает функциональную автономию личности в рамках любой социальной системы. Соответственно в этих рамках следует принимать во внимания два аспекта ее существования.
В качестве актора она выполняет социально значимые действия, которые контролируются другими участниками взаимодействия в соответствии с нормативно-ролевыми предписаниями.
Но в своей целостной воплощенности она обладает потенциалом и возможностями, выходящими за пределы любой социальной системы, и участвует в них лишь частично. Это расхождение определяет область порождения изменений и инноваций, подлежащую сложившимся и конвенционально установленным социальным системам.
Нормы и дополнительность в контексте социального взаимодействия’. Рассматривая механизмы нормативного поддержания равновесия социальной системы, Т. Парсонс обращается к концепции дополнительности функций и ожиданий во взаимодействии Эго и Альтер.
Как отмечает Э. Гоулднер, он трактует это понятие как взаимную дополнительность, хотя такое отождествление неправомерно при допущениях, что сами нормы суть производная социальных интеракций и что существует функциональная автономность акторов.
Взаимная дополнительность предполагает: то, что Эго определяет как свои права, считается обязанностями Альтер, а то, что Альтер полагает как свой долг, Эго рассматривает как свое право.
Согласно Парсонсу, такие отношения устанавливаются при условии, что стороны разделяют общий моральный код. Дополнительность же в этих терминах, подчеркивает Гоулднер, предполагает нечто иное: в условиях взаимодействия каждая сторона имеет свои права и обязанности.
Оба вида структурирования совместной активности в ходе интеракции могут нарушаться. В первом случае Альтер может не признавать своим долгом права Эго, либо Эго может отказаться считать своими обязанностями права Альтер. Во втором — участники взаимодействия могут не считаться с автономностью прав и обязанностей друг друга.
Даже при допущении о взаимном воздействии различными оказываются его степени. Неоднозначность взаимозависимости и зависимости от системы в целом становится важным фактором вариаций или изменений ее состояний.Таким образом, система не сводится только к ее равновесному состоянию, и интеграция ее функциональных единиц характеризуется неустойчивым балансом сил и, следовательно, напряженностью.
В каждый период времени степень интегрированности системы определяется соотношением устойчивых и неустойчивых объединений групп интересов между собой и с властными структурами, равнодействующей их взаимных давлений, переговоров и компромиссов. Принятые в рамках системы моральные нормы и ценности в какой-то степени ограничивают их поведение в ситуациях торгов.
Однако соображения групповых интересов нередко расходятся с провозглашаемым этосом и оказываются более сильными динамическими факторами, влияющими на характер взаимодействий участников.
Соответственно выявление разделяемых социальных норм и культурных ценностей отнюдь не достаточно, чтобы судить об интегрированном состоянии системы, поскольку их вербальное признание не означает обязательного следования им на уровне интеракций.
Они далеко не всегда уменьшают и регулируют напряжения между тенденциями к интеграции и к автономизации тех, кто составляет социальную систему. Чаще всего это лишь показатели, устанавливающие их культурные пределы. Согласно Гоулднеру, сама природа норм такова, что через них выражаются социальные напряжения: они возникают как конвенциональное определение и «связывание» реальных и потенциальных конфликтов.
Длительное время в рамках структурного функционализма считалось, что моральные нормы поддерживают целостность социальной системы. Они осваиваются в процессе социализации, а затем используются в ситуациях социального взаимодействия «автоматически». Сегодня фокус внимания сдвинулся к определению интеракционных механизмов поддержания моральных норм как таковых. Тем более, что представление об аномии, разработанное
Э. Дюркгеймом, указывает на то, что они не вечны и могут нарушаться в массовом масштабе. В этом случае, считает Гоулднер, и возникает необходимость разделить понятия взаимной дополнительности и дополнительности, имея в виду, что последняя мобилизует эгоистические побуждения и закрепляет их в культурно установленных, в том числе нормативных формах.
Моральные нормы и отношения «власть — подчинение». Один из социально значимых способов подержания моральных норм объясняется с помощью механизма власти в смысле могущества, силы.
(Далее будут употребляться все три понятия.) Когда существует значительное неравенство в распределении силового потенциала, — а оно присутствует всегда, — в рамках социальной системы неизбежно возникают отношения эксплуатации. В этом случае более могущественный может принуждать более слабого следовать моральным нормам, не вознаграждая его за это должным образом.
В рамках сложившейся ранее версии структурного функционализма силовой потенциал (власть) как фактор поддержания равновесного состояния системы рассматривался в особом ракурсе. Акцент ставился на ограничениях, налагаемых на его использование моральным кодом. Позже было признано, что такого рода сдержки нельзя считать ни единственными, ни наиболее действенными.
В том числе и для равновесного состояния системы. При дифференциации использования силы следует обращать внимание на то, как одни акторы контролируют других в этом отношении.
Так, если взаимодействие направлено на удовлетворение запросов, прямо не относящихся к достижением властных позиций, мораль не допускает чрезмерных диспропорций в проявлениях могущества. В противном случае силовые состязания не только не ослабляются моральными нормами, но последние используются участниками борьбы для оправдания ее правомерности.
Статьи по теме
- Проблемы и перспективы изучения социокультурной микродинамики средствами социологии
- Закономерности взаимоперехода парадигм в проблемной ситуации
- Факторы, определяющие выбор парадигмы
- Границы применимости переговорной стратегии
- Динамический потенциал переговоров: признаки и показатели
- Принципы преодоления межличностных затруднений
- Стили переговорного взаимодействия
- Ситуации, благоприятные для переговоров
- Границы применимости конфликтной парадигмы
Полезные статьи


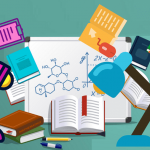




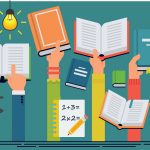

Узнайте цену услуг:
Узнай цену консультации
"Да забей ты на эти
дипломы и экзамены!”
(дворник Кузьмич)

